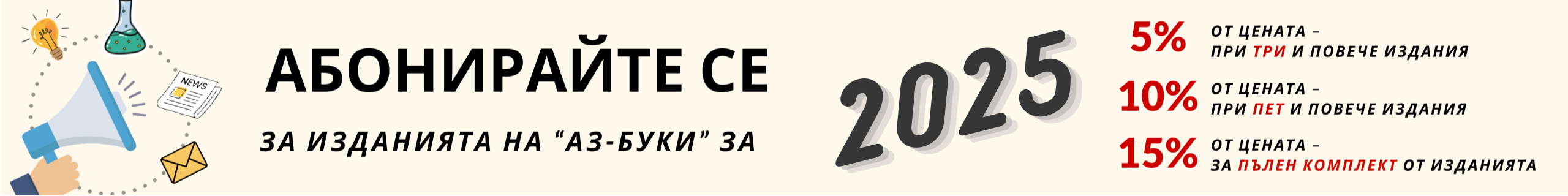Martin Henzelmann
University of Greifswald
https://doi.org/10.53656/for2025-01-09
Abstract. A compact Bulgarian minority lives in the south of the Republic of Moldova, primarily in the Taraclia district. There is a relatively stable infrastructure for teaching Bulgarian language and culture.
The Bulgarian population has settled in this region since the early nineteenth century and has managed to preserve its mother tongue. This paper examines the social status of the Bulgarian language from historical and contemporary perspectives, and it analyzes the possibilities of teaching Bulgarian in local schools. In addition, the article touches upon the legal situation in the various states to which the historical region of Bessarabia belonged.
Keywords: Republic of Moldova; Bessarabia; Bulgarians; pedagogy; language didactics; minority Language
С 1806 по 1812 год длилась русско-турецкая война, которую русская сторона решила в свою пользу. В результате этих событий царская империя присоединила к себе Бессарабию, которая сегодня во многом совпадает с Республикой Молдова. После этой войны в южной части Бессарабии началась интенсивная миграционная волна, организованная российскими правителями и напрямую повлиявшая на создание многочисленных бессарабско-болгарских поселений, что хорошо описано в научной литературе (Duminica 2017, Iliev 2019, Kondov 2019, Kondov 2021, Todorov 2023 и др.). Очевидно, что в новой жизненной ситуации обучение родному языку поселенцев могло проходить только в сложных условиях и что потребовалось некоторое время, прежде чем была создана стабильная система языковой педагогики. Уточним, что уже в начале XIX века в Кишиневе существовали государственные школы, которые посещали болгары и другие этносы, но в новых болгарских селах Бессарабии после заселения не было собственных школ, так как населению приходилось решать экзистенциальные, практические и социально-экономические проблемы, которые в то время были более актуальны, чем вопрос образования. Кроме того, многие крупные поселения, такие как Комрат или Валя-Пержей, были многонациональными, что затрудняло формирование этнически однородных школьных классов.
В 1816 году было предложено, чтобы все болгарские семьи заплатили деньги, предназначенные для создания местной школьной системы, прежде чем многочисленные школы смогли бы начать преподавание в последующие десятилетия (Duminica 2017, pp. 209-210). Важно упомянуть, что так называемые школы „Белл-Ланкастерской системы“, которые практиковали взаимное обучение учеников, были основаны в сёлах с преимущественно болгарским населением в 1840 году, сначала в Кирютнии (сегодня Кортен), а затем в Тараклии. К 1843 году в болгарских поселениях насчитывалось уже 77 школ (Duminica 2017, p. 217). Поскольку самостоятельной системы образования на болгарском языке ни в Бессарабии, ни в тогдашней Болгарии в это время не существовало, уроки проводились на русском и староцерковнославянском языках, например, в приходской школе, основанной в Болграде (сегодня в украинской части Бессарабии) в 1842 году. Наконец, в 1858 году в Болграде была открыта центральная школа, которая считается первой болгарской средней школой. Здесь преподавание велось частично на румынском, частично на болгарском языке (Duminica 2017, pp. 217 – 218, Demin 2006, p. 148, Karaivanova 2018, p. 53). Однако, местные школы Бессарабии внесли фундаментальный вклад в русификацию болгар. Во многом это связано с тем, что их основание уже было связано с целью обучения русскому языку. Следовательно, образование бессарабских болгар с самого начала было преимущественно русским (Duminica 2017, pp. 218 – 219). Начиная с 1870-х годов, в Российской империи были проведены многочисленные реформы, которые способствовали дальнейшей ассимиляции болгарских поселенцев (а также других этнических групп), такие как введение обязательной военной службы в 1871 году и полная передача ответственности за все школы Министерству народного просвещения в 1877 году (Demin 2006, p. 148). Несмотря на акцент на знание русского языка, языковые проблемы болгар не могли быть полностью проигнорированы. В 1869 году в Комрате была основана Бессарабско-болгарская центральная школа, где болгарский язык преподавался как отдельный предмет (Demin 2006, p. 149). Этот период продлился недолго, поскольку уже в 1879 году было принято решение создать из центральной школы в Болграде классическую русскую гимназию, хотя болгарский язык, литература и история по-прежнему могли преподаваться. Это касалось и других школ, где русский был языком обучения, но отдельные предметы преподавались на болгарском языке, и даже использовались болгарские учебники (Demin 2006, p. 149). Так было не всегда, потому что на начальном этапе не было подходящих учебников, которые можно было бы использовать для преподавания болгарского языка. Кроме того, учителя не были достаточно подготовлены для преподавания на русском и болгарском языках (Duminica 2017, p. 219).
Начиная с 1860-х годов, отношение к болгарам и их языку изменилось и стало уничижительным. Поэтому неудивительно, что при таком отношении к этническим болгарам не было никакой заинтересованности в том, чтобы предложить им соответствующую программу обучения их собственному языку и культуре. Соответственно, болгарские школы и издание собственных газет были запрещены. То, что болгарский язык смог утвердиться в Бессарабии, несмотря на все притеснения в этот период, объясняется, в основном, тремя факторами: Во-первых, болгары жили компактными поселениями, где между собой разговарывали на болгарском языке. Во-вторых, соседние села часто были населены немецким или молдавским населением, что означает, что языковая община оставалась относительно изолированной. В-третьих, болгары являлись сельским населением, которое организовало свою повседневную жизнь как самодостаточные крестьяне и культивировало очень консервативное и чувствительное к традициям мировоззрение.
Ситуация резко изменилась для населения, когда Румыния в 1918 году аннексировала всю территорию Бессарабии. С этого момента румынский язык должен был стать всеобъемлющим кодом общения, но по разным причинам это не удалось реализовать. Румынский язык в школах был введен не сразу, так как после объединения с Румынией русский язык был заменен болгарским в качестве языка обучения. Болград, в частности, стал важным образовательным центром, специализировавшимся на подготовке специалистов на болгарском языке. Однако, этот этап продлился недолго, так как к 1922 году все школы в регионе полностью перешли на румынский язык (Chervenkov & Duminika 2013, p. 350). Кроме того, были приняты строгие законы, которые регулировали использование языков в общественных местах и преимущественно пропагандировали румынский (Schlegel 2019, р. 74). Несмотря на это, с 1917 года использование румынского языка значительно возросло, особенно в Кишиневе, где ему уже отдавалось предпочтение во многих учреждениях (Poştarencu 2019, pp. 380 – 381). Подобное положение должно было переместиться и на юг, где население говорило на русском и своих местных языках, таких как болгарский. Если учитывать исключительно языковые навыки местного населения на юге, можно утверждать, что румынизация региона за такой сравнительно короткий срок была совершенно нереальной.
Новое гражданство и языковая ситуация оказались особенно сложными для русских, евреев, украинцев, гагаузов, албанцев и болгар Молдовы. Уже в 1920-х годах скептическое отношение к этим меньшинствам на периферии Румынии заметно усилилось, зарплаты упали, а налоги выросли. На этом фоне румынская администрация решила принять более систематические и жесткие меры по отношении к меньшинствам. В 1930-е годах были введены строгие меры контроля за использованием «неправильного» языка (Schlegel 2019, рр. 76 – 81). Своим жестким поведением румынские властирастеряли всякую симпатию населения к своим планам языковой реформы и к своему присутствию в регионе в целом. Бессарабские болгары скептически относились к румынской администрации и с большим сомнением относились к Бухаресту (Barbarov 2023, pp. 260 – 261). Уже в конце 1920-х годов возникла идея создания отдельной болгарской партии для решения проблем местного болгарского населения. Одним из наиболее важных обсуждаемых вопросов было продвижение изучения болгарского языка в начальных школах. В конечном итоге, ни политические амбиции, ни учебные программы не могли адаптироватся к образовательным требованиям из-за нехватки финансовых ресурсов и поддержки со стороны болгарского правительства. Кроме того, в болгарском сообществе существовали опасения, что поддержка такой деятельности заклеймит их как противников румынского правительства (Barbarov 2023, p. 261).
Реформа образования негативно повлияла на изучение языка в школах, поскольку формально преподавание на болгарском языке было возможно, но только в частных средних школах. В целом приоритет отдавался румынскому языку, что в долгосрочной перспективе должно было привести к языковой ассимиляции населения, поскольку оно не могло позволить себе годами отправлять своих детей в частные, а значит, платные школы (Barbarov 2023, p. 262). Таким образом, первые годы под румынским руководством характеризовались прежде всего определенным недовольством государственно-административными структурами, но в то же время это стало причиной все более активного участия бессарабских болгар в повседневной политической жизни (Barbarov 2023, p. 265). Это также влияет на вопрос о положении болгарского языка в государственных учреждениях, таких как школы, поскольку призывы уделять ему более пристальное внимание стали более важными.
В 1940 году Советскому Союзу удалось снова включить в свой состав Бессарабию. Последствием этой инкорпорации, в свою очередь, стало административное разделение Бессарабии. Хотя большая часть территории осталась за Молдовой, как северная, так и южная часть (а с ней и выход к Черному морю), отошли к Украине. Произвол, определявший отношение к людям, снова стал повсеместным (Buchholz 2019, p. 359). Советская власть в регионе едва смогла утвердиться в начале 1940-х годов, несмотря на все свои стратегические преимущества. Поэтому, в период между 1941 и 1944 годами, Румыния вновь захватила Бессарабию (Knott 2022, p. 50). В это время болгарское население разрывалось между геополитическими интересами Румынии и Советского Союза, но в целом проявляло больше симпатий к Москве, чем к Бухаресту. Свою роль здесь сыграл и тот факт, что болгарское меньшинство было в значительной степени знакомо с русским языком. Информация была гораздо доступнее для болгар, если она была представлена на русском языке (Schlegel 2019, p. 76). Отчасти это было связано с тем, что русский язык не мог быть заменен румынским в качестве инструмента межэтнической коммуникации, хотя Бухарест делал все возможное, чтобы привлечь на свою сторону этнические группы Бессарабии, претендующие на власть.
В румынский период вновь усилилось давление на местные этнические группы в южной Бессарабии. Власти пришли к выводу, что было бы полезно включать в удостоверения личности запись об этнической принадлежности в дополнение к категории гражданства. Это вызвало беспокойство среди болгар и других местных групп, которые подозревали негативные последствия или даже депортацию. Например, в болгарском селе Калчева к северу от Измаила (сейчас в Украине) это привело к беспорядкам и многочисленным попыткам получить румынские документы. Они считались необходимыми для того, чтобы предотвратить нападение на свою собственность (Schlegel 2019, pp. 90 – 91). В такой ситуации, когда жителей оценивали в первую очередь по их этническому происхождению, было сложно обеспечить языкам меньшинств адекватную поддержку. Напротив: поскольку многочисленные этнические группы считались подозрительными, так как они тормозили румынизацию региона, и нельзя было быть уверенным в их лояльности, то языковой вопрос в этот период решался очень строго. Об этом свидетельствует, в частности, приказ, изданный в 1941 году генералом Войкулеску, губернатором Бессарабии. В нем говорилось о том, что на территории Бессарабии запрещено использование других языков, то есть всех языков, кроме румынского. В нем указано, что это правило распространяется не только на общественные места, но и на другие сферы, в том числе школьное образование, хотя и с некоторыми исключениями. Строгие языковые законы также предусматривали крупные штрафы и шестилетний запрет на работу в государственном секторе за их нарушение.
Когда в апреле 1944 года советские войска захватили Бессарабию, они сразу же ввели административные правила, которые Москва издала для этого региона в 1940 году, а именно: средняя часть Бессарабии должна была управляться Молдавской ССР, а (северная и) южная – Украинской ССР. В 1946 году молдавские партийцы выступили против этого и потребовали единства региона, но Москва это проигнорировала.
Ситуация, сложившаяся незадолго до распада Советского Союза, свидетельствует о региональных изменениях, связанных с потребностями местного населения и его языковыми и культурными особенностями. В Молдове к концу 1980-х годов усилилось стремление ввести румынский язык в качестве официального и вернуться к латинской орфографии. Этот вопрос был сильно политизирован и очень неоднозначно воспринимался нерумыноязычным сообществом, которое включает в себя почти все остальные этнические группы в государстве. В то время как русскоязычные жители относились к проекту в основном скептически, жители Приднестровья пошли еще дальше и увидели в нем конкретную угрозу. Все мероприятия, инициированные румыноязычной общиной, были интерпретированы русской, а также и гагаузской сообществами как провокации, и поэтому в Приднестровье и в Гагаузии выдвигали те же требования к своим языкам и культурам. Языковой вопрос перерос во внутриполитический кризис, тем более что для русскоязычной общины оказалось совершенно новым опытом жить в качестве меньшинства в государстве (Cazacu &Trifon 2016, pp. 31 – 32). В Приднестровье и Гагаузии конфликт дошел до крайней точки, и начались вооруженные столкновения. Приднестровье, не входившее в состав исторической территории Бессарабии, в результате отделилось от остальной части Молдовы, а в Гагаузии был создан автономный регион с особыми полномочиями (Colbey 2022, p. 25). На этом фоне следует отметить, что болгарское меньшинство освоило русский язык, в то время как румынский лишь постепенно смог укрепить свои позиции. Тем не менее, болгарская община вела себя умеренно и лояльно, сотрудничала с Кишиневом; у них не было ни беспорядков, сравнимых с приднестровскими, ни неприятия центрального правительства, как в Гагаузии. Однако, это не означает, что новая ситуация в Молдове воспринималась без тревоги или даже эйфории, поскольку было неясно, какой статус должны иметь болгары в новом государстве, что сопровождалось значительными опасениями среди местного населения (Cazacu&Trifon 2016, pp. 35 – 36).
В контексте сложной структуры меньшинств в новой независимой Республике Молдова и опыта сепаратизма, который был успешным в Приднестровье и который удалось предотвратить в Гагаузии только с помощью огромных усилий и компромиссов, вопрос болгарского языка был коренным образом урегулирован. Кишинев не мог позволить себе раздражать жесткой языковой политикой многочисленное меньшинство, говорящее на болгарском языке. К этому добавлялось знание о том, как использовались другие языки, кроме румынского, в Бессарабии в начале 1940-х годов, а старшее поколение тогда еще столкнулась с этой строгостью. Это привело к тому, что в последующие годы в Молдавии сложилась специфическая ситуация, ориентированная на то, чтобы избежать ошибок прошлого и принять многоязычную реальность страны. С этого момента целью стало не только продвижение национального языка, но и поддержка других языков в смысле многоязычного образования, что нашло соответствующее отражение даже в правовой ситуации.
До обретения государственной независимости всем языкам, за исключением русского, необходимо было придать самобытность и институциональную поддержку. В первую очередь это касалось государственного (т.е. молдовского или румынского) языка, который был установлен в качестве единственного официального языка в Законе о языках в 1989 году и при помощью которого власти вновь ввели латинскую орфографию. Статус языков меньшинств тогда не был приоритетным, он обсуждался в этнических группах, пока в 1992 году президентский указ не позволил этническим меньшинствам изучать свой родной язык (Delibaltova-Stoyanova 2009, p. 621). В 1994 году было выдвинуто требование, чтобы все школьники свободно владели государственным молдавским или румынским и русским языками. Конституция того же года соответствующим образом регулирует языковые требования Республики Молдова (Ciscel 2008, pр. 106 – 107). Видно, что на начальном этапе государственной независимости только название „русского“ языка упоминается как язык, которому отводится особая роль наряду с „официальным“ языком; другие языки не называются по имени. С другой стороны, подчеркивается, что на поддержку могут рассчитывать и все языки, широко распространенные на территории Молдовы, в том числе болгарский. Формулировка законодательного текста настолько общая, что не подразумевает никаких заявлений о конкретных мерах поддержки или обязательств со стороны государства. Однако, ситуация изменилась всего через год, когда в 1995 году был принят Закон об образовании, в котором были прописаны важные меры и гарантировалось обучение на родном языке (Ciscel 2010, p. 21).
Конституция Республики Молдовы, в которую в 2013 году решением Конституционного суда были внесены определенные поправки, содержит дополнительные положения, касающиеся использования языков в различных ситуациях. Например, согласно статье 118, в судебном процессе может использоваться любой язык, если он приемлем для всех участвующих сторон (Constituția Republicii Moldova 2022, pp. 102 – 103), что во многих случаях позволяет использовать русский язык, поскольку многие жители, особенно на юге страны, часто владеют этим языком лучше, чем румынским. Однако это также означает, что при определенных условиях судебные заседания могут проводиться, например, и на болгарском языке.
В 2002 году Республика Молдова подписала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Этот документ был принят Советом Европы и представляет собой руководство по бережному обращению с языками меньшинств, которые должны быть защищены как важное культурное достояние. Речь идет как о трансграничных проектах, так и о государственной поддержке языков, отличных от титульных, в образовательной политике, учреждениях культуры, СМИ, судебной системе, государственных службах, устном и письменном использовании языка в общественных местах и многих других сферах, а также об их официальном юридическом признании. Государства, присоединившиеся к этой инициативе, подписывают и ратифицируют документ, прежде чем он вступит в силу в соответствующем государстве. Поскольку Республика Молдова на сегодняшний день подписала, но не ратифицировала эту хартию, она не была перенесена в национальное законодательство. Однако, решение не ратифицировать хртию ни в коем случае не свидетельствует о неадекватном государственном или политическом подходе к этническим меньшинствам и их языкам, а скорее является выражением собственной осведомленности страны в решении данной проблемы. Следствием этого является то, что некоторые сферы деятельности, которые, согласно Хартии, должны быть предоставлены языкам меньшинств, в Молдове не используются, как, например, многоязычные надписи на табличках с указанием населенных пунктов, которые на всей территории страны, за исключением Гагаузии, размещаются только на румынском языке. Соответствующие указатели на болгарском языке отсутствуют даже в тех местах, где преобладает болгароязычное население. С другой стороны, надписи на другом или нескольких языках сегодня очень широко распространены в многих населенных пунктах Молдовы, будь то уличные вывески, надписи на частных торговых точках, мемориальные доски, памятники, музеи, школы, культурные центры или другие учреждения.
Важно также обратить внимание на школьное образование на болгарском языке, которое было разрешено в конце 1980-х годов. Прежде чем это стало реальным, необходимо было преодолеть ряд препятствий, и это оказалось возможным только благодаря инициативе некоторых активных местных энтузиастов. Димитрий Гургуров первым начал сбор подписей в селе Кортен и описал этот процесс в личных беседах с автором данной статьи. Целью его кампании было добиться разрешения преподавания болгарского языка в местных школах, и только в небольшом селе Кортен было собрано более ста подписей. Васил Кондов, нынешний профессор в Тараклийском университете, также был одним из первых, кто подписал этот список, но он отозвал свою подпись, поскольку Кондов в то время уже жил в Болгарии, и он не хотел, чтобы власти СССР имели повод препятствовать школьным урокам, используя ничтожные аргументы. Подписи начали собирать и жители других болгарских сел, например, Николай Тодоров, который делал это в Твардице. Всего было собрано более тысячи подписей, и списки с этими подписями были переданы в Москву Николаем Тодоровым из Валя-Пержея и Виктором Стояновым из Болграда.
Болгарский язык был включен в учебную программу в качестве факультативного предмета с 1986/87 учебного года. Лекции проводились раз в неделю. После того как Министерство народного просвещения Молдавской ССР утвердило учебный план для седьмого и восьмого классов, издательство «Лумния» в 1988 году выпустило четыре учебника под научным руководством Михаила П. Манолова из села Кайраклии, который в то время был одним из самых активных представителей местной болгарской интеллигенции. По этим учебникам проводились уроки дважды в неделю. Цель заключалась в том, чтобы познакомить учеников с литературным болгарским языком, поскольку их языковые навыки в значительной степени зависели от их домашнего окружения, а не от языковой нормы, используемой в Болгарии (Paslar 2014, p. 95). Один учебный урок был посвящен преподаванию языка, а другой – знакомству с болгарским фольклором и литературой. В разделе „Язык“ учебные материалы были сосредоточены в основном на графемно-фонемных отношениях в системе болгарского языка и стандартизированной лексике.
В сентябре 1989 года болгарский язык был предложен с первого класса, а всего через год – как равноправный предмет с первого по одиннадцатый класс. Соответствующим учебным пособием для первого класса был изданный в Софии „Буквар“, к которому были подготовлены рекомендации для использования на уроках в Кишиневе. Школьникам с первого по пятый класс преподавали язык и литературу по три часа в неделю (Paslar 2014, p. 98). В начале 1992/93 учебного года в 34 школах преподавались болгарский язык и литература, а в некоторых сельских школах были добавлены уроки по истории. В Тараклии открылся Болгарский лицей, в котором преподавались болгарские уроки, но большинство занятий велось на русском языке. Изначально основным недостатком было то, что в стране не было достаточно специализированных и подготовленных учителей, прошедших педагогическую подготовку для преподавания болгарского языка. По этой причине они обратились в болгарские учебные заведения, которые могли бы предоставить соответствующие средства, что стало одной из причин появления рекомендации по использованию материалов. Благодаря благоприятным законам и двусторонним соглашениям между Республикой Молдова и Болгарией удалось наконец стабилизировать преподавание болгарского языка и литературы в населенных пунктах с компактным проживанием этнических болгар (Delibaltova-Stoyanova 2009, p. 622). Это событие можно рассматривать как огромный шаг вперед для местной болгарской общины, поскольку оно значительно улучшило условия для сохранения языка и оживило интерес к его поддержанию.
Первые учебники, которые использовались в школах, были привезены из Болгарии. Это обстоятельство сопровождалось многочисленными практическими проблемами, поскольку они были связаны с реальностью страны, условия которой были недостаточно знакомы бессарабским болгарам. Понятно, что материалы также не были адаптированы к многоязычным потребностям Молдовы и не учитывали местные условия, связанные с особенностями истории бессарабской культуры. Материалы также не были адаптированы к многоязычным потребностям Молдовы, для которой характерен интенсивный языковой контакт с русским и румынским языками (Kondov 2021), и не учитывали местные условия, связанные с особенностями локальной культурной истории. На этом фоне Министерство образования и науки Республики Молдова разработало новые учебные материалы, которые учитывают эти местные особенности, а также языковые обычаи, которые встречаются в различных диалектах болгарской общины и знакомы целевой группе. Уникальность новых учебных материалов заключается в том, что они посвящены темам, связанным с государством Болгария, его историей, литературой и современностью, но сочетают их с реалиями жизни в Республике Молдова, историей Бессарабии, местными болгарскими традициями и региональной литературой (Delibaltova-Stoyanova 2009, pp. 623 – 625).
Кроме этого, существуют еще две институциональные меры по закреплению родного языка, которые выходят за рамки школьного образования и укрепляют роль болгарского языка на юге Молдовы. Во-первых, это детские сады, где на болгарском языке говорят даже с самыми маленькими детьми. По этой причине в таких местах, как Тараклия, Валя-Пержей, Кортен и Твардица, где компактно проживает болгарское население, в местных детских садах уже довольно рано начали учить болгарские песни, стихи и сказки. Во-вторых, это высшее образование, так как Педагогический университет в Кишиневе и Университет в Комрате начали готовить специалистов. Кроме того, в 2004 году был основан университет в Тараклии (Delibaltova-Stoyanova 2009, p. 622), который с 2009 года носит имя болгарского епископа Григория Цамблака (рум. Grigore Țamblac), и где курсы ведутся на румынском, болгарском и русском языках (см. изображение № 1).

Изображение 1. Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака. Фотография автора, 2022 г.
Далее, важным аспектом преподавательской деятельности является кадровая и материальная поддержка со стороны Болгарии. В сотрудничестве с болгарскими экспертами и при совместном финансировании болгарской стороны были подготовлены многочисленные учебники. Многие жители Республики Молдова, участвовавшие в создании дидактических материалов, являются членами „Научного общества болгаристов Республики Молдова“ (болг. „Научно дружество на българистите в Република Молдова“). Есть интернет-страница, на которой данное содружество перечисляет свою деятельность, а также предоставляет список всех учебников, изданных на сегодняшний день. Из этого следует, что в настоящее время существует 48 болгарских учебников с первого по двенадцатый класс (https://www.ndb.md/).
Министерство образования работает над созданием комплексной системы подготовки персонала для детских садов и средних школ с детьми болгарского происхождения. В 1988 году Педагогическое училище в Кагуле начало подготовку воспитателей и учителей для начальных школ. Весной 1992 года указом президента Республики Молдова были приняты дополнительные меры по развитию болгарской культуры и языка. Одним из непосредственных результатов этого стало основание в 1992 году в Тараклии образовательного учреждения „Святые Кирилл и Мефодий“. Его задача – подготовка учителей для детских и начальных школ, а также преподавателей музыки для школ в селах с этническим болгарским населением. Специалистов по болгарской филологии также готовят на соответствующих факультетах Государственного педагогического университета Кишинева „Ион Крянгэ“ (рум. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău) и Государственного университета Комрата. Первые выпускники начали работать в местных школах в 1995 году (Paslar 2014, p. 103).
В одной своей статье Надежда Кара описывает изменения, произошедшие в преподавании за последние три десятилетия. Она отмечает, что рамочные условия в конце 1980-х годов и сегодня совершенно разные. До 1999 года практически не существовало учебников, которые были бы адаптированы к потребностям молдавских болгар и языковому поведению учебной группы. Поэтому в Софии и Габрово в Болгарии были организованы специализированные учебные курсы для преподавателей. Их цель – помочь адаптировать учебники, предназначенные для Болгарии, к условиям и задачам, характерным для повседневной жизни группы носителей того же языка в Республике Молдова (Kara 2017, pp. 32 – 33). В дополнение к двум учебникам Михаила Манолова с 1988 года, Николай Тодоров в 1992 году опубликовал соответствующий рабочий материал под названием „Роден език“ („Родной язык“). Тодоров, который благодаря умелой тактике смог изучать славистику в Москве и получил солидное и болгаристическое филологическое образование, написал предисловие и комментарии к своему учебнику на русском языке. Это было необходимо для того, чтобы объяснить концептуальную обработку и работу с материалом, поскольку русский язык в то время часто был единственным языком, который местное население умело правильно использовать в письменной форме. Болгарский использовался практически только в устной форме, поэтому Кара считает эту обработку в ретроспективе очень полезной (Kara 2017, p. 34). Следует также отметить, что в советское время бессарабским болгарам обычно не разрешалось изучать болгарскую филологию, поэтому Тодоров был большим исключением. Несомненно, в послевоенный период он был одним из тех специалистов, которые создали наилучшие предпосылки для научного изучения болгарского языка в Молдове и соседней Украине, а также для его преподавания. Поэтому концептуализация его дидактического материала была разработана качественным образом. В 1996 году тот же автор составил еще один учебник под названием „Помагало по роден език (за българи от Украйна и Молдова)“ („Учебник по родному языку (для болгар из Украины и Молдовы)“). Поэтому Надежда Кара отмечает, что труды Тодорова были очень полезны как основа для более поздних учебных материалов, прежде чем в 1999 году наступил новый этап, когда были опубликованы ее собственные учебники для школьной программы (Kara 2017, p. 35).
Помимо школьных учреждений, следует упомянуть и воскресную школу «Научного общества болгаристов в Республике Молдова». В период с 1993 по 1994 год культурная ассоциация „Възраждане“ впервые основала в Кишиневе воскресную школу, которая была ориентирована в первую очередь на преподавание языка. В настоящее время в молдавской столице также существует лицей „Васил Левски“, но не все дети школьного возраста болгарского происхождения посещают его. Поэтому инициатива воскресной школы является важным инструментом для проведения уроков болгарского языка вне рамок обязательной учебной программы. Кроме того, воскресная школа служит образовательной платформой для тех, кто хочет подготовиться к обучению в Болгарии. Те, кто уже завершает свое школьное образование в лицее „Васил Левски“, могут расширить свои знания в воскресной школе или восполнить содержание пропущенных уроков. С 2011 года в болгарской библиотеке „Христо Ботев“ проводятся целевые языковые курсы, которые поддерживаются Министерством образования и науки Болгарии. Сегодня воскресная школа также поддерживается этим министерством, а с 2012 года она была интегрирована в деятельность „Научного общества болгаристов в Республике Молдова“ (Raceeva 2017, pp. 80 – 82). Воскресная школа преследует пять основных стратегических целей, которые можно кратко сформулировать следующим образом: 1) обучение стандартному болгарскому языку; 2) систематизация имеющихся фрагментарных языковых знаний или навыков; 3) поощрение понимания болгарского языка; 4) лингвистическая подготовка к учебной поездке в Болгарию; 5) популяризация аутентичного бессарабско-болгарского фольклора (Raceeva 2017, pp. 83 – 84). Следует подчеркнуть, что такой подход можно объяснить потребностями молдавско- болгарской общины, поскольку в ней проживает большое количество людей, которые либо происходят из этнически смешанных семей, либо для которых болгарский язык был распространен в семейном окружении в прошлом, но сегодня уже не культивируется в достаточной мере. Эти люди имеют личную связь с болгарским языком, и воскресная школа реагирует на это в виде специальных программ. То же самое относится и к подготовке к поступлению в болгарский университет. Этому взаимодействию можно придать новый импульс, если университет в Тараклии станет филиалом Русенского университета в Болгарии, что обсуждается уже несколько лет. Подобный шаг открыл бы совершенно новые возможности для всех преподавателей или студентов. Кроме того, повысилось бы общественное восприятие бессарабских болгар в Болгарии.
Несмотря на все эти позитивные изменения, положение этнических меньшинств в Республике Молдова также подвергается критике. Европейский центр по проблемам меньшинств (ECMI), расположенный во Фленсбурге (Германия), жалуется, например, на то, что языковое и этническое равенство являются крайне политизированными вопросами. Языки меньшинств не представлены в системе образования вообще или представлены слишком слабо, за исключением автономного района Гагаузия, и тот факт, что все решения в этой области принимались без представителей отдельных меньшинств, также заслуживает критики. Успех преподавания государственного языка, то есть румынского, не был достаточно гарантирован (Osipov & Vasilevich 2022, pp. 52– 54). Тем не менее, в заключение мы хотели бы подчеркнуть, что образование на родном болгарском языке в Республике Молдова – это, в целом, огромный успех для бессарабских болгар, за который они боролись в трудных условиях. Сегодня у них есть возможность пройти через многоязычную систему образования, в которой болгарский язык занимает прочное место благодаря либеральному молдавскому законодательству, толерантной языковой культуре в стране и хорошим двусторонним отношениям с Болгарией. Поэтому мы более оптимистично смотрим в будущее и считаем, что современная образовательная система безусловно способствует сохранению бессарабско-болгарской лингвокультуры.
ЛИТЕРАТУРА
БАРБАРОВ, Р., 2023. Судьба бессарабских болгар в первое десятилетие Объединëнной Румынии (1918–1930): статистика и реакция на политико-территориальные изменения. В: COMATI, S. и др., ред. Bulgarica, vol. 5, pр. 253 – 268. Мюнхен: AVM.
ДЕЛИБАЛТОВА-СТОЯНОВА, М., 2009. Преподаването на българския език и литература в Молдова през 90-те години на ХХ век. В: Българите в северното Причерноморие, Т. 10, № 1, с. 621 – 628.
ДЕМИН, О., 2006. Русификация в сферата на образованието на българското население в Северното Причерноморие през XIX век: Археология на политиката. Българите в Северното Причерноморие, Т. 9, с. 145–152.
ИЛИЕВ, И. Г., 2019. За произхода на едно антропонимично явление в българските говори в Бесарабия. Онгъл, Т. 16, с. 33 – 38.
КАРА, Н., 2017. Учебници по български език в Република Молдова: Етапи, подходи. В: ЧЕРВЕНКОВ, Н., ДУМИНИКА, И. и ДИМИТРОВА, Н., (ред.). Преподаване на българския език в Република Молдова: опит и перспективи, с. 32 – 35. Кишинев: Lexon-Prim.
КАРАИВАНОВА, Т., 2018. Учебници, издадени в болградската гимназия (186 1– 1875). Сливен: Огледало.
КОНДОВ, В., 2019. Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременно състояние. 2 изд., доп. и прераб. Тараклия: Universitatea de Stat „Grigore Țamblac“.
КОНДОВ, В., 2021. Говорът на кортенци в Бесарабия (Република Молдова). Книга втора. Текстове. Тараклия: Universitatea de Stat „Grigore Țamblac“.
НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БАЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА. Достъпно на: https://www.ndb.md/.
ПАСЛАР, М., 2014. Исторически преглед на обучението по български език в Република Молдова. В: Дунав – Днестър. Годишник, т. III, с. 93 – 104.
РАЦЕЕВА, Е., 2017. Българско неделно училище към Научното дружество на българистите в Република Молдова като актуална форма на изучаване на българския език. В: ЧЕРВЕНКОВ, Н., ДУМИНИКА, И. и ДИМИТРОВА, Н., ред. Преподаване на българския език в Република Молдова: опит и перспективи, с. 80 – 86. Кишинев: Lexon-Prim.
ТОДОРОВ, Н., ред., 2023. Език и култура на българи и гагаузи в Бесарабия: състояние и изследване. Тараклия: Universitatea de Stat „Grigore Țamblac“.
ЧЕРВЕНКОВ, Н., & ДУМИНИКА, И., 2013. Тараклии – 200 лет. Т. I (1813 – 1940). Кишинев: Cu drag.
REFERENCES
BARBAROV, R., 2023. Sudba bessarabskikh bolgar v pervoe desyatiletie Obedinennoy Rumynii (1918–1930): statistika i reakcia na politiko-territorialnye izmenenia. In: COMATI, S., et al., eds. Bulgarica, vol. 5, pp. 253 – 268. München: AVM.
BUCHHOLZ, E., 2019. Verwehte Spuren deutscher Kolonisten im Osten. Bad Bevensen: Verlag des Biographiezentrums.
CAZACU, M., & TRIFON, N., 2016. Un état en quête de nation. La République de Moldavie. 2nd ed. Paris: Non Lieu.
CHERVENKOV, N., & DUMINIKA, I., 2013. Taraklii – 200 let. Tom I (1813 – 1940). Chişinău: Cu drag.
CISCEL, M. H., 2008. Uneasy Compromise: Language and Education in Moldova. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, vol. 11, no. 3 – 4, pp. 373–395.
CISCEL, M. H., 2010. Reform and Relapse in Bilingual Policy in Moldova. Comparative Education, vol. 46, no. 1, Special Issue 39, pp. 13 – 28.
COLBEY, R., 2022. Transnistria. An Investigation of the Case for de jure Independence. London: University of Buckingham Press.
CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA, 2022. Available from: https://presedinte.md/app/webroot/Constitutia_RM/Constitutia_RM_RO.pdf.
DELIBALTOVA-STOYANOVA, M., 2009. Prepodavaneto na balgarskia ezik i literatura v Moldova prez 90-te godini na XX vek. In: Balgarite v Severnoto Prichernomorie, vol. 10, no. 1, pp. 621 – 628.
DEMIN, O., 2006. Russifikatsia v sfere obrazovania bolgarskogo naselenia Severnogo Prichernomoria v XIX veke: Archeologia politiki. In: Balgarite v Severnoto Prichernomorie, vol. 9, pp. 145 – 152.
DUMINICA, I., 2017. Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774 – 1856). Chişinău: Lexon-Prim.
ILIEV, I. G., 2019. Za proizhoda na edno antroponimichno yavlenie v balgarskite govori v Besarabia. Ongal, vol. 16, pp. 33 – 38.
KARA, N., 2017. Uchebnici po balgarski ezik v Republika Moldova: Etapi, podhodi. In: CHERVENKOV, N., DUMINIKA, I., and DIMITROVA, N. (eds.) Prepodavane na balgarskia ezik v Republika Moldova: opit i perspektivi, pp. 32 – 35. Kishinev: Lexon-Prim.
KNOTT, E., 2018. Kin Majorities. Identity and Citizenship in Crimea and Moldova. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
KARAIVANOVA, T., 2018. Uchebnitsi, izdadeni v bolgradskata gimnazia (1861 – 1875). Sliven: Ogledalo.
KONDOV, V., 2019. Ezikat na balgarite na Pusto pladne: v Rusia, SSSR, Moldova i Ukrayna. Istoria i savremenno sastoyanie. 2nd ed. Taraclia: Universitatea de Stat „Grigore Țamblac“.
KONDOV, V., 2021. Govorat na kortentsi v Besarabia (Republika Moldova). Kniga vtora. Tekstove. Taraclia: Universitatea de Stat „Grigore Țamblac“.
NAUCHNO DRUZHESTVO NA BALGARISTITE V REPUBLIKA MOLDOVA. Available from: https://www.ndb.md/.
OSIPOV, A., and VASILEVICH, H., 2022. ECMI Eastern Partnership Programme: National Minorities and Ethno-Political Issues. ECMI Report #71. Flensburg: ECMI.
PASLAR, M., 2014. Istoricheski pregled na obuchenieto po balgarski ezik v Republika Moldova. In: Dunărea – Nistru. Anuar, vol. III, pp. 93 – 104.
POŞTARENCU, D., 2019. Basarabia în anii Primului Război Mondial. Chişinău: Lexon-Prim.
RACEEVA, E., 2017. Balgarsko nedelno uchilishte kam Nauchnoto druzhestvo na balgaristite v Republika Moldova kato aktualna forma na izuchavane na balgarskia ezik. In: CHERVENKOV, N., DUMINIKA, I., and DIMITROVA, N. (eds.) Prepodavane na balgarskia ezik v Republika Moldova: opit i perspektivi, pp. 80 – 86. Kishinev: Lexon-Prim.
SCHLEGEL, S., 2019. Making Ethnicity in Southern Bessarabia. Tracing the Histories of an Ambiguous Concept in a Contested Land. Leiden, Boston: Brill.
TODOROV, N., ed., 2023. Ezik i kultura na balgari i gagauzi v Besarabia: sastoyanie i izsledvane. Taraclia: Universitatea de Stat „Grigore Țamblac“.
The Bulgarian Language in the Republic of Moldova (Status, Pedagogy, and Legal Situation)
Abstract. A compact Bulgarian minority lives in the south of the Republic of Moldova, primarily in the Taraclia district. There is a relatively stable infrastructure for teaching Bulgarian language and culture.
The Bulgarian population has settled in this region since the early nineteenth century and has managed to preserve its mother tongue. This paper examines the social status of the Bulgarian language from historical and contemporary perspectives, and it analyzes the possibilities of teaching Bulgarian in local schools. In addition, the article touches upon the legal situation in the various states to which the historical region of Bessarabia belonged.
Keywords: Republic of Moldova; Bessarabia; Bulgarians; pedagogy; language didactics; minority Language
Martin Henzelmann, Privatdozent/Associate Professor
ORCID iD: 0000-0003-0812-6508
University of Greifswald
Department of Slavonic Studies
Ernst-Lohmeyer-Platz 3
17489 Greifswald
Germany
E-mail: martin.henzelmann@uni-greifswald.de
>> Download the article as a PDF file <<